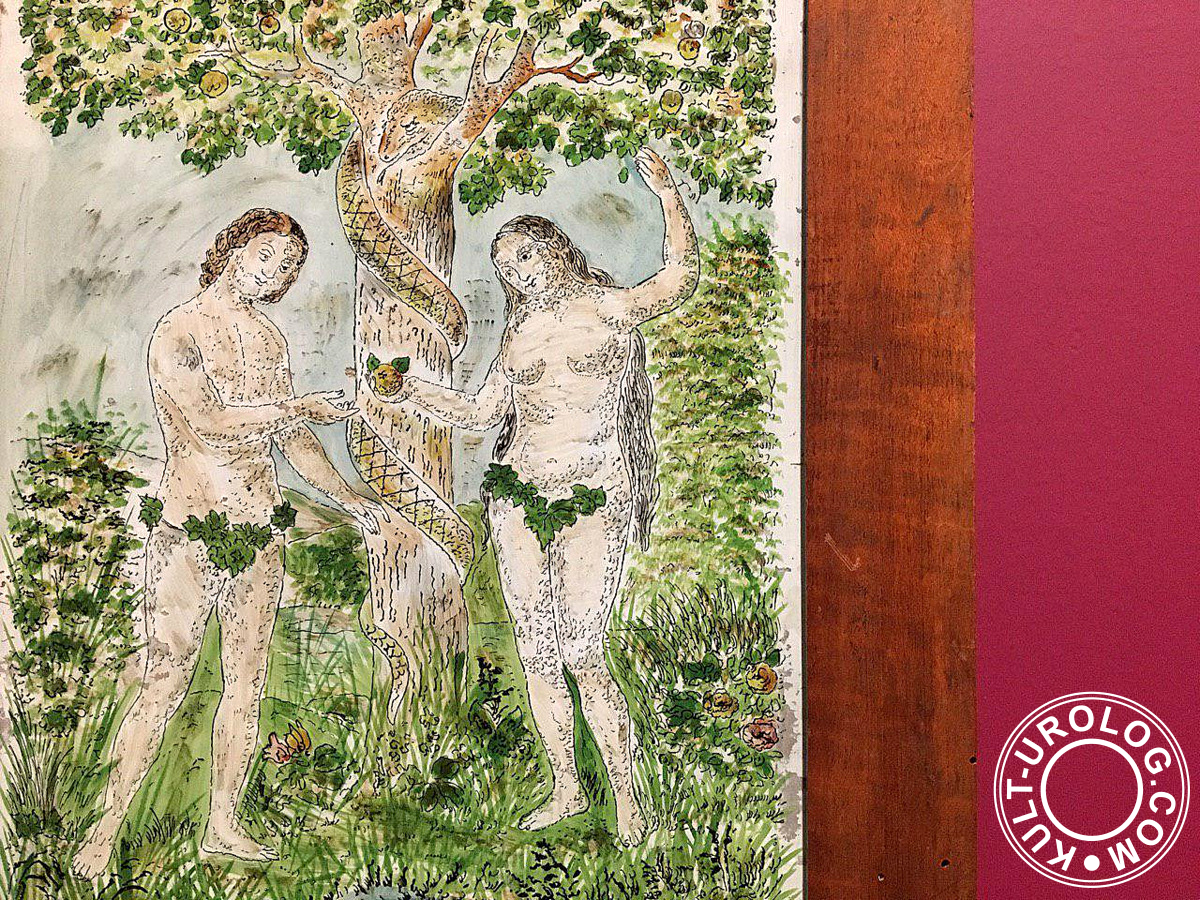С живописью под стеклом работают по всей Европе, но главными очагами создания и распространения оказываются Австрия, Богемия и Моравия. Здесь реверсная роспись становится практически самым популярным декоративно-прикладным искусством, а потом и народным промыслом. Здесь оно в итоге и сохранится. Даже тогда, когда везде его признают морально устаревшим.
После гуситских войн и прочих проявлений вольнодумства Католическая церковь вернулась на территорию Чехии и взяла своё, развернув строительство барочных храмов с соответствующим убранством. Реверсная роспись прекрасно вписалась в этот стиль. Чтобы прикоснуться к небесному пригодилось нечто очень земное. Прихожан, насмотревшихся и впитавших, потянуло на пышность и яркие краски. Лучащееся золотом стекло могло дать каждому то, о чём он мечтал. Так что за свою возросшую популярность в регионе реверсное стекло должно благодарить именно барокко. Рококо — тоже, но в меньшей степени, потому что оно оказалось сложнее для понимания. Нежно улыбающиеся Богоматери-пастушки с изящными овечками-паствой встречались, но чаще это были совсем уж аллегории чего-нибудь, то есть большеглазые дамы в цветах и корсетах или томные кавалеры в ярких панталонах, зачем-то названные «Праздностью» или «Тщеславием» — странное искусство, на любителя.
Персонажи античных мифов и прочие аллегории пользовались популярностью всегда, но им было не обогнать по количеству и распространённости изображения святых и сюжеты из Библии. Они были понятнее всего (и заодно — понятны всем), уместны в любой обстановке, а их создание поощрялось и одобрялось Церковью. Любой церковью. Поэтому реверсная живопись с одними и теми же сюжетами была одинаково распространена и в Испании, и в Англии.
Например, в «Гордости и предубеждении» Джо Райта (с Кирой Найтли) реверсной живописью украшена гостиная Беннетов, и в почти финальной сцене слева от мистера Бингли можно заметить пророка Даниила во рву, печально увещевающего равнодушного льва. Беннеты провинциальны, миссис Беннет невежественна, но всё ещё за чем-то следит и на многое надеется, отсюда — реверсная живопись на самом видном месте.
Такие картины можно было купить на рынке в крупном городе, на ярмарке или где-нибудь при монастыре. Что покруче — устанавливали в местной часовне, чем попроще и подешевле — украшали крестьянские дома.
Реверсно-стеклянными были сувениры для паломников: с местными святыми, с соборами, с гербами князей или видами ближайших достопримечательностей. В каждой области были свои орнаменты. Пока в Японии похожими функциями обладала гравюра, в Европе было стекло. Вместо открытки — стекло, вместо плаката турбюро — стекло, вместо магнитика на память — тоже стекло. Заодно такой сувенир сразу блестел и сверкал, благодаря чему смотрелся эффектно и многообещающе.
Пока крестьянство увлекается религиозными сюжетами, в сельско-дворянской и бюргерской среде набирают популярность профили и силуэты (искусство с китайскими корнями). Как только стекло подешевело, у не самых богатых слоёв общества, которые хотели бы иметь свои полноценные портреты, но не могли себе этого позволить, появилась возможность заказывать хоть какие-то изображения себя. И чем красивее они были оформлены, тем лучше. Реверсный портрет под стеклом соответствовал всем требованиям. Та же самая среда украшает жилища аллегориями, как чем-то более светским и оригинальным на фоне привычных сцен из Библии (это увлечение можно также списать на влияние эпохи Просвещения и научных открытий).
Около 1800 года производств на территории Австрии, Германии и Богемии становится возмутительно много. Штамповки — и того больше. Даже регионы, где не было ничего развито (и не было мест паломничества), устраивали заводы и мастерские по росписи, чтобы приподнять свою экономику. Изображения изготавливались тысячами, а то и десятками тысяч. Обычно этому посвящались неурожайные зимние месяцы, когда на улице было нечем заняться.
Например, трудолюбивая семья средних размеров, проживавшая в маленьком Зандле на границе с Богемией, за одну зиму могла выпускать до двадцати тысяч картин с различными сюжетами, сообщает нам немецкая Википедия (дата обращения — 5 марта 2020).
Часто производства находились рядом со стекольными заводами, то есть тоже где-то глубоко в сельской местности. Художники там были соответствующие — сельские, обученные прямо на месте. Так что картинка упрощалась в том числе для того, чтобы её мог освоить даже малоопытный мастер с самодельными инструментами.
Поскольку производство было поставлено на поток, результат часто получался хрупким, и краска начинала отваливаться довольно быстро (а ещё стекло билось). Это мало кого смущало: картин было много, они продавались везде, а частая смена картинок позволяла регулярно обновлять интерьер.
Таким образом, преобладали посредственность и техническая воспроизводимость, напрочь лишённая ауры в беньяминовском смысле (с другой стороны, как все мы помним, ещё Пруст писал, что художественное воспитание масс начинается не с шедевров). Но в отдельных районах Богемии и Моравии в XIX веке периодически появлялись мастера, которых что-нибудь отличало: видел Рубенса, умел рисовать, соблюдал пропорции, выбирал нестандартные сюжеты — такое. Работы этих художников на выставке тоже есть. Чешских мастеров, о которых можно узнать больше всего, трое.
На Севере Богемии, в городе Скалице был Винценц Янке (1769-1838), один из виднейших мастеров, долгое время считавшийся выходцем из Аугсбурга. А ещё двух мастеров подарил истории искусства в первой половине XIX века Волари, город на юге Чехии: Иоганна Киндерманна, сосредоточившегося на «Метаморфозах» Овидия, и Акселя Шрайбера, чьей специализацией стали зеркала и рамы.
В XVIII веке реверсная живопись ещё что-то завоёвывает, в середине XIX века она уже окончательно побеждает, появляясь почти в каждом европейском доме. Но как только в ХХ веке стекло начинают делать методом вытягивания, получая оптимальный результат, который прежние мастера видели только в самых смелых своих фантазиях, интерес к такого рода картинам угасает.
Известно, что Клее и Кандинский тоже работали в этой технике. Но так, для разнообразия. К тому моменту она уже была слишком простонародной и бесхитростной, то есть не модной, а масляные краски стали производить централизованно и совсем другого качества, так что даже кустари переходят на масло.
Впрочем, даже в свои лучшие годы реверсная живопись никогда не была популярна везде и одновременно. Она даже не была одинаковой, отличались и техники, и результат. При этом в каждой стране были свои любимые темы, совпадавшие с основным направлением в классической живописи.
В ренессансной Италии рисуют пейзажи и греческих/римских богинь. Чуть позже в Швейцарии главной темой становится природа, на фоне которой художники помещают много-много маленьких фигурок (Швейцария останется верна миниатюре до упора, то есть пока не откажется от реверсной живописи вообще).
В Турции, унаследовавшей технику вместе с Константинополем, но запрещающей изображения живых существ, реверсная роспись принимает вид цитат из Корана. В Нидерландах популярны мельницы и пехотинцы, во Фландрии — порты и морские сражения. В Германии — аллегории («Четыре сезона», «Юность», «Забвение») и сцены охоты. Все вместе могут выдать вариации на китайские темы (каких-нибудь драконов), потому что торговые отношения как бы вдохновляют.
Ещё позже и в Восточной Европе — религиозные сюжеты. И хотя для реверсной росписи это был вечный хит, до такой степени наводнить рынок изображениями пророков, чудес и местных святых не смог ни один другой регион за всё время существования обсуждаемой техники.
Во Франции реверсная живопись развивается и угасает в эпоху рококо, превращаясь из живописи в свободной манере в эгломизе. В Северной Америке — это XIX век и портреты политических деятелей.
В Румынии XVII-XX веков реверсным способом пишут иконы для греческого православного населения Трансильвании (поэтому сюжеты и изображения там кажутся близкими и знакомыми).
Индия, Сирия и Иран предпочли персидские миниатюры. Китай — пейзажи, птиц и портреты, напоминающие фотографии из обычного семейного альбома: женщины, женщины с детьми, ближайшие родственники в домашней обстановке. Степень проработанности изображений — как в ренессансной Европе. То же самое можно сейчас обнаружить в Японии, где не перестают реверсно изображать карпов и гейш. К этому можно добавить знаменитый хорватский наив, который создаётся династиями сельских художников-самоучек до сих пор (масштабный, метр на метр, а то и больше; в духе Анри Руссо или наборов для вышивания крестиком, с лошадками и цветами).
Среди всего этого разнообразия почти не встречается копий известных произведений. Могли повторяться композиция, расположение фигур или цвета, но кустарные «Джоконды» или «Ночные дозоры» тысячами не создавались. Хотя были творческие переработки и копии чуть менее известных произведений. Лучше всего, если по этому произведению уже существовала гравюра. Её и повторяли. Уже упоминавшийся «Орфей» из собрания Рудольфа II — это переработка. Зато «Девушка у окна с фонарём» (возможно, Богемия, конец XVIII века) — довольно точная копия гравюры «Девушка у окна с фонарём» Яна Томаса ван Иерпена (ученика Рубенса) по картине «Девушка у окна с фонарём» Геррита Доу (ученика и Рембрандта, и художника по стеклу — Петера Коухорна).
Во время осмотра возникает много разных ассоциаций: японские лаковые шкатулки, украшенные перламутром (и вообще декоративно-прикладное искусство эпохи Мэйдзи), фрески в Помпеях, византийская мозаика, венецианское стекло, лубочные картинки, книжная графика, китайские золотые драконы, хохлома, картины из соломки, миниатюрная палехская роспись…
А если посетитель время от времени заглядывает в ближайший магазин хозтоваров, вспомнятся ещё и подкрашенные, как первые цветные фотографии, переливающиеся пейзажи на металле. Или календари на глянцевой плёнке, блестевшие в начале девяностых годов на каждом рынке в российских городах. Или британские открытки с котиками на чёрном фоне, уже вполне современные, встречающиеся в каждом крупном европейском книжном магазине.
И всё это не просто так, потому что у всего этого есть общие корни, всё появилось в результате взаимодействия. Похожее родство мы встречаем у шведской расписной лошадки, жостовского подноса и голландских натюрмортов XVII века, когда искусство прошло путь от сложного к простому, растеряв символическое значение, но уйдя в народ.
Что касается ассоциаций с японскими лаковыми изделиями, то тут всё просто. Как и многое другое в стране Восходящего солнца, сначала они были китайскими. И не обязательно лаковыми.
Японский «намбан», то есть «искусство варваров с юга», стал результатом знакомства с западными сувенирами. Иезуиты накануне периода Эдо (во второй половине шестнадцатого века), пока в Японии им были ещё рады, завозили на острова европейские произведения искусства и товары народного потребления. И в качестве подарков, и чтобы продемонстрировать, чем прекрасна западная цивилизация.
Европейцы в то время вообще часто приезжали ко всем с сувенирами, и при этом старались не везти что попало (но бойтесь европейцев, дары приносящих).
Подкрадывались иезуиты со стороны Мексики, поэтому как варвары они были — «с юга».
Из привозного понравилось не всё, так что основу намбана в итоге составили расписные ширмы. Скорее всего, шкатулки или кабинеты со стеклянной отделкой тоже были в числе прочего, но ими уже было не удивить японцев: к тому моменту они уже успели развить своё искусство миниатюры по китайскому образцу.
И вот это-то образец и является ближайшим потомком европейской реверсной живописи. Роспись по стеклу проникает в Японию со стороны Китая (откуда она, кстати, попадает и в Индию). Потому что туда иезуиты добрались раньше. И тоже привезли сувениры.
Если судить по датам, Поднебесной досталось итальянское, немецкое и швейцарское, то есть самое проработанное, миниатюрное и красивое. Это была та реверсная живопись, которую ещё можно отнести к искусству. И она светилась, как шёлк, переливалась перламутром и мягко мерцала золотом (эффект, которого не давала обычная роспись по эмали) — отказаться было невозможно. В Китае начали повторять.
Так что Японии оставалось только переосмыслить и адаптировать понравившееся, доразвив маки-э. Эта техника переживает свой расцвет в эпоху Эдо (стартует в XVII веке); а многие предметы подозрительно напоминают то, что иезуиты ввезли в Китай веком ранее.
Стекло в японской версии превращается в лак. Потому что он был привычнее, с ним умели работать, его лучше понимали. Но это-то превращение и меняет всё.
И уруси (это такой лак), и радэн (это такая инкрустация перламутром) в Японии уже были свои, то есть тоже из Китая.
В самом начале местные версии завезённых изделий несколько отличались от оригиналов, напоминая помесь западного и китайского (больше коричневого, больше золотого; что, например, прекрасно иллюстрирует японский кабинет XVI века из азиатского отдела the Met).
В период изоляции японское, идя своим путём, становится ближе европейскому, так что уже кабинеты и шкатулки эпохи Мэйдзи (второе великое столкновение в Западом) демонстрируют большее сходство со старыми иезуитскими сувенирами: к чёрному фону добавляется чёрное дерево. Не эбеновое, как было когда-то, зато покрытое уруси. Весь этот чёрный лак кажется европейцам очень японским, но почему-то понятным и близким, но всё-таки японским. Хотя кажется не в первый раз. Ведь когда во второй половине пятнадцатого века европейцы вывозили на континент лаковую миниатюру из Японии, они делали это не просто так, исключительно из-за новизны. Они видели знакомое.
Потому что когда-то чёрный фон уже успел побыть немецким Ренессансом, а перламутр и золото — швейцарским маньеризмом. Только намбаном реверсная живопись официально не стала, потому что зачем-то опередила своё время, то есть зашла с другой стороны, как что-то китайское.
И до столкновения импрессионистов с фарфором, обёрнутым мятым простонародным укиё-э, волшебная сила искусства уже сработала в обратную сторону. А потом уже, через первоначальное увлечение французами, Богемия и Моравия — центры по производству реверсной живописи — пришли к японизму, который очень гармонично вписался в существующие практики.
И если слегка усложнить, то получается, что русские лаковые шкатулки, подражающие японским, которые тоже оказываются не оригинальными, подражают итальянской и византийской росписи по стеклу многовековой давности (ишь, куда меня занесло!). И что касается Византии, то это особенно приятно, учитывая давно сложившуюся традицию заимствовать именно её образцы.
В моей личной коллекции есть предметы с росписью и перламутром (современные, конечно; антиквариат я до сих пор не тяну; впрочем, мы с предметами моложе не становимся, так что их статус ещё впереди, надо только подождать), и всё это время мне нравилась именно их японская японскость, хотя при этом я находилась в центре региона, из которого всё это действительно произошло. В том месте, где это развивалось параллельно.
Выставка не рассказывает и не показывает всего, у неё совсем другие задачи. Она не показывает, насколько низко всё упало в конце XIX века и пропускает Китай, Японию, современные работы и, что уж, весь XX век. Если бы она стремилась охватить всё, посетители уходили бы не через пару часов, а через пару дней. Просветлённые, но пошатываясь.
Поскольку никто не готов к таким экспериментам (а ещё — даже самый богатый музейный фонд не может располагать всем), дополнительные материалы — наш выбор. Потому что выставка мотивирует. Если было всё это, значит, должно быть что-то ещё. Опять же, надо проверить, кажется или не кажется посетителю всё то, что ему кажется.
Открывать что-то новое для себя прямо на выставке легко. Сделать так, чтобы посетитель захотел сделать это ещё и после, — личная победа куратора над невежеством толпы.
Хотя толпа не возражала бы, если бы и каталог выставки был выпущен не только на чешском. С искусством просто, оно понятно всем; но не всякий рядовой искусствовед, пусть и очень замотивированный, может осилить другой язык. Даже за то время, пока музейное событие года не кончается.