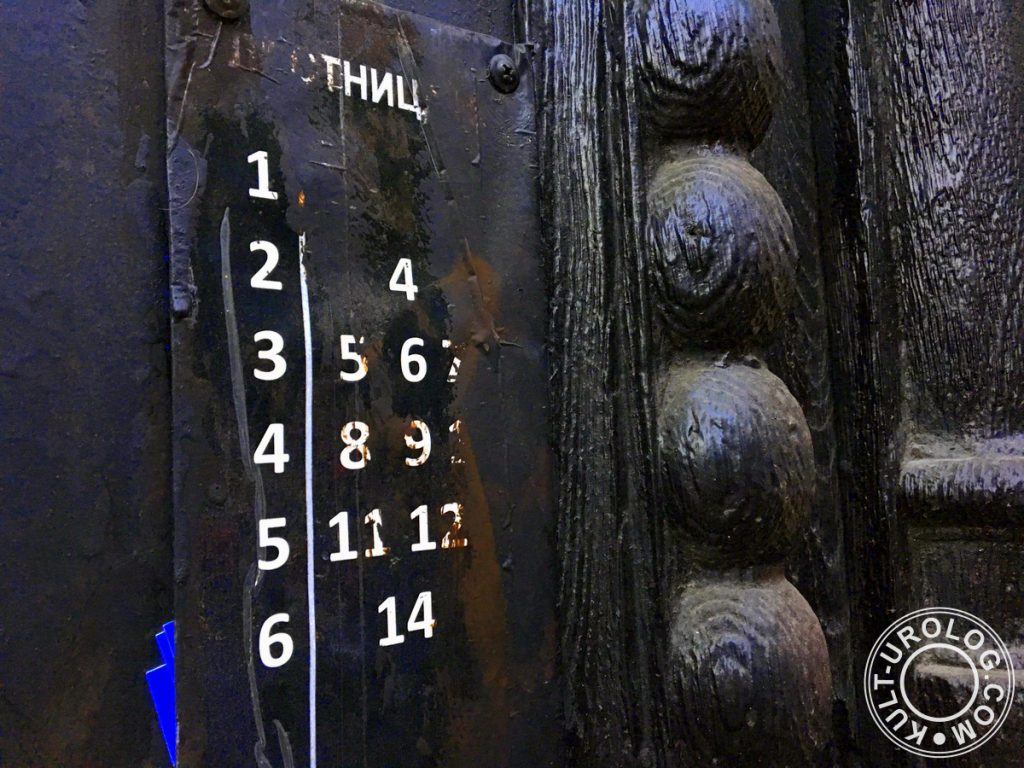Города существуют уже много тысяч лет. Не сами города, то есть не все, но форма совместного проживания.
И общества без городов не бывает, как учит нас Витольд Рыбчинский (только кочевые народы в них не нуждаются, всем остальным без них никак).
Можно вести историю городов от Иерихона (основан примерно за 8000 лет до нашей эры) или от Урука (приблизительно 3500 лет до нашей эры, более точная датировка и прочие интимные подробности — в Википедии). Урук предпочтительнее, потому что там уже наблюдалось зонирование, а это как бы очень важно.
Города обычно строили на пересечении торговых путей. На квадраты и прямоугольники город придумали делить в Греции. В ту пору, когда она ещё была Древней, в пятом веке до нашей эры (Гипподамова система, подозрительно похожая на безымянную систему в Малой Азии). В Риме схему дополнили центральным перекрёстком двух главных дорог, а все главные улицы обязали сходиться к городской площади (все дороги ведут в Рим, а римские дороги — к центру, к музеям). По единому образцу начали строиться города в колониях. Такой римский город был символом римского порядка, римской цивилизации. То есть не только набором материальных удобств. За часть этих удобств отвечала, иногда добровольно, иногда под давлением, знать. Горячая вода в банях, театры и общественные здания, гладиаторские бои и состязания колесниц, статуи самого благодетеля и памятные таблички о нём — всё это было делом чести знатного человека, а потому им же лично и оплачивалось.
План центра города, построенного в рамках масштабной программы колонизации был всегда одинаков. Развернуться можно было только на окраинах, где система улиц уже так жёстко не ограничивала участки (городское пространство могло быть разделено на квадраты площадью, скажем, 400 квадратных метров каждый), и где местная знать строила всё не по плану, но руководствуясь собственным вкусом и возможностями. Жилые комплексы могли занимать площадь, превышавшую раз в десять стандартные клеточки в центре. Но чем меньше было поселение, тем изворотливее становилась знать. Участки приходилось брать только те, что были, а душа требовала чего-то ещё. Так в африканских колониях распространились подземные этажи. Иногда общественное пространство перегораживалось, чтобы объединить парочку домов. И если властям было выгодно этого не замечать, никого не штрафовали, а вместо улицы появлялся изящный тупик. Но если властям было не всё равно, нарушителей наказывали, а новенький коридорчик или бассейн приходилось обратно превращать в пешеходную зону.
В конце позднеримского периода в частных домах появляются собственные термы и уборные, всё ещё коллективные, но уже не общественные. Это говорит нам не о догадливости древних, не о внезапно развившейся стыдливости и не о технологическом прорыве (можно всё делать у себя дома и не ходить через полгорода? это прогресс!), но о возрастающей потребности в частном комфорте (а это не с неба сваливается, это надо осознать) и о характере социальной иерархии, когда важный горожанин расхотел посещать общественный бассейн вместе с неважными горожанами.
Римляне не были сами собой в деревне. И при этом они не воспринимали города как естественно возникшие сообщества. Город всегда рождался при поддержке Закона. И без этой поддержки он рисковал деградировать: враждебные силы природы и лентяй-горожанин, за которым надо было следить (а праздный класс — это вообще отличительная черта городов, если что) могли погубить город, стоило только власти ненадолго отвлечься.
К девятому веку нашей эры формируются европейские города. В них появляется четыре самые важные вещи: ратуша, рынок, собор и кладбище. Потом кладбища, конечно, вынесут за черту города; во-первых, мало ли, там инфекция или следы разложения какие; во-вторых, печалька. И сразу лирическое отступление: у римлян кладбища сразу были вне города, потому что именно на въездах, вдоль обочин дорог земля никому не принадлежала (сакральное пространство), что позволяло устраивать захоронения. А франки и германцы старались отодвинуть своих мёртвых как можно дальше, чтобы те ненароком не вернулись. Но Церковь всё изменила: уже к 750 году все покойники переползли в центр города, стали частью общественного пространства и уже не так пугали горожан.
Возвращаясь к самым важным вещам: городская стена, появившаяся раньше всяких там ратуш, никуда после ряда нововведений не исчезла. Она не только защищала от чьих-нибудь нападений и давала возможность взимать налоги. И если стены перестали возводить намеренно, как, например, сделали это в античном Волюбилисе, что помогло повысить цены на жильё, моментально сделав район престижным (и тут мы как бы замечаем, что кое у кого были не только книжки про урбанистику, но ещё и «История частной жизни» под редакцией Дюби и Арьеса; как минимум, первый том), то «естественная» городская граница по-прежнему помогала создать уют: на ночь ворота запирались, так что горожанин чувствовал себя словно в общем доме. И необходимость в каких-то сооружениях, отделяющих городское пространство от всех прочих, отпадёт только во второй половине XIX века.
В XII веке Западная Европа превращается в пространство накопления. Все вспоминают, что есть такая удобная штука, как римское право. Пространство и время становятся светскими. А в XVI веке город в Западной Европе одерживает верх над деревней, и земельная собственность утрачивает своё прежнее значение.
Многомиллионные города теперь — это не обязательно столицы.
Чем всегда занимался и до сих пор занимается город? Производством городской цивилизации. На что похож всякий уважающий себя современный город с множеством центров, но с отсутствием вала, городской стены или иной заметной границы? На irregulare aliquod corpus et monstro simile («несвязное тело, делающее его похожим на чудовище»).
Мегаполисы превращаются в мегарегионы. Таким мегарегионам, объединяющим крупные города, в Европе даже границы не страшны. И важнее мощь связей этого региона, чем его внутренний потенциал. Лучше всего мегарегионы видны из космоса, когда в этих мегарегионах ночь и горят огни. А лучше всего из всех перечисленных авторов про них рассказал Флорида.
Город — это то, что должно быть видно сверху (с ближайшего холма, на карте или, как сейчас, на снимке со спутника). Или чтобы набережная поражала своим великолепием пассажиров проходящих мимо судов. Или чтобы партийный лидер из своего автомобиля мог видеть, как меняется столица. Как планируют планы? А так и планируют.
У кого власть, тот и решает, как будет выглядеть город (всё логично). Аристократия возводит особняки, правительство забирает земли под широкие проспекты и железные дороги (самая обыкновенная конфискация у Церкви или у других собственников), торговые сети придумывают витрины и вывески, собственники строят небоскрёбы, а местные власти проектируют площади пошире, чтобы демонстрации и хороводы никто не устраивал.
Ещё четыре сотни лет назад на средний сон у среднего горожанина уходило не больше семи часов. И не столько промышленная революция удлинила рабочий день благодаря повсеместному внедрению искусственного освещения, сколько сам городской образ жизни посодействовал тому, чтобы это освещение усовершенствовалось (что подразумевало снижение себестоимости; и чтобы меньше чадило, конечно). XIX век пережил использование каменноугольного газа и керосина, после чего красиво перешёл к электричеству, но не переставал, впрочем, пользоваться рапсовым и льняным маслом. Потому что никто не хотел спать, а достижения настигали всех не сразу. А ещё все стремились осветить своё жилище и днём, поэтому пришлось дорабатывать не только ночники.
Стекло — материал изначально дорогой. Широко распространённый, давно известный, но для некоторых целей изначально не приспособленный. Поскольку процесс изготовления был слишком сложным, никаких излишеств при строительстве никто себе особо позволить не мог. То есть витражи в соборе — сколько угодно, хоть с синеньким, хоть с красненьким, а вот у себя дома, дорогие друзья, и ставнями обойдётесь. Или ещё как выкрутитесь. С зеркалами дело обстояло ещё хуже. Но как только (и опять — относительно недавно) было налажено промышленное производство стекла, всё изменилось. И изменилось ещё больше, когда после демонстраций Эдисона, то есть с 1880-х годов, в городах начало распространяться электричество. До этого освещение улиц тоже предусматривалось, ещё с XVI века, но стекло и искусственное освещение смогли полностью изменить ночной облик городов (это к тому заодно, что мелкие потребности жителей способны влиять на такие крупные объекты). Появилась световая реклама, контуры зданий стали менять при помощи подсветки, продлилось время бодрствования и прогулок по улицам.
Изменился и вид зданий. Именно стёкла дали нам пассажи и витрины магазинов, стеклянные стены, пропускающие свет и любопытные взгляды, воздушные конструкции, теплицы, большие окна многоэтажек, блики и отражения («В сто тысяч солнц закат пылал»).
Стала возможна совершенно другая архитектура, надо было только решить, какая. Ле Корбюзье предложил заменить вертикальные окна горизонтальными. Что мы сейчас и имеем. Фасады делать полностью стеклянными тоже предложил. Их, как и плоские крыши, оценили не все: на крышах скапливалась дождевая вода, а окна давали не только свет, но и лишнее тепло, если выходили на солнечную сторону (в «кораблях» в одной квартире все окна могут на эту сторону выходить, что в тридцатиградусную жару превращает помещение в одно из последних мест, где хотелось бы оказаться).
Архитекторы часто считают, что архитектура всех спасёт. Что предложит новые формы сосуществования в городе.
Архитекторов завораживают грандиозные проекты. Обычно такие проекты предполагают создание чего-нибудь утопического. И чтобы ещё людей с улиц убрать подальше. И пусть в городах будущего, о которых пишет Холлис, всё будет решать программное обеспечение (автор ратует за что-то android’оподобное, чтобы не как у Apple), жизнь там будет не лучше. Это всё те же грандиозные проекты, хоть и сплошной хай-тек.
Чтобы сделать городской пейзаж более выразительным, художники всегда старались убрать людей куда подальше (с природой старались проделывать то же самое). И нет ничего удивительного в том, что после появления фотографии ничего не изменилось. Технология на первых порах, конечно, и так особо не позволяла развернуться на полную катушку, но и просить сограждан постоять спокойно и не дёргаться никто не спешил.
Поскольку изначально технология не позволяла делать моментальные снимки, объектив необходимо было держать открытым до 30 минут. А это давало в итоге один очень забавный эффект: неподвижные здания, которые никуда не убегут, на фотографии были, а людей не было. Другой приём — располагать камеру над всей уличной жизнью (возвышенная точка обзора) — тоже был популярен. Люди, понятное дело, тоже где-то терялись и сливались с тротуаром (сейчас принято над городом гонять дрон с камерой ровно для тех же эффектов). Хотя после 1851 года, когда моментальные снимки таки стали доступны, горожане попадают в кадр. А появление кинокамеры, что привело к ряду «портретов городов» (Дзига Вертов), вообще вывело повседневную жизнь горожан на первый план. Окружающая действительность не только стала интересна, но и превратилась в главное действующее лицо.
Османизация привела к ощущению дезориентации (такую потерянность потом назовут агорафобией), и парижане не чувствовали себя дома, гуляя по собственному городу. В немалой степени этому содействовала не только линейная перспектива улиц, не только их ширина, но и стандартизация фасадов зданий, упразднявшая разнообразие, благодаря которому прежде были ориентиры, было на что посмотреть на улице. И с тех пор города превращаются в лабиринты. Хоть они и строятся по чёткому плану и с прямыми улицами, но улицы эти до того однообразны, а ряды домов так бесконечны, что мечта древних сбылась. Ведь разнообразие фасадов — это вещь очень важная. Как мы воспринимаем город? С высоты своего роста. Поэтому нам нужны детали. Когда их нет, наш путь по улице становится бесконечным.
Перспективе придавалось приоритетное значение. Если ради правильного вида у здания должен быть непропорциональный купол, да будет так.
Город воспринимался, как единое пространство, где улицы должны были быть взаимосвязаны ради единого целого.
После Османа под реконструкцией стало подразумеваться не украшение, но трансформация пространства, а если вспоминать употреблявшиеся метафоры и сравнения, то «хирургическая операция» на нём. Из центра города исчезли огороды, кустарным производствам пришлось тяжело. Город наводнился клерками из предместий. У буржуа появилась возможность показывать себя не только друг другу, но и другим экономическим классам и национальностям: за фасадами бульваров, так никуда и не девшись, просто подвинувшись, оставались районы, заселённые представителями низших классов, и теперь у них появилась возможность тоже по этим бульварам гулять. Не фланировать, как раньше (пространство задавало совсем иные скорости), но гулять, мчаться, озираться, хотеть того же самого.
Невский проспект, широкий и прямой, появился до османовских преобразований. Он, судя по тому, что можно прочесть у Гоголя, даже позволял фланировать и изучать городские характеры. Но сейчас он не всегда позволяет просто по нему пройтись. Все побежали — и я побежал. Есть направление, есть скорость людского потока, есть те, о кого спотыкаешься, стоит им замереть посреди дороги. Так что не только ширина проспекта, но ещё и хлынувшие туда людские потоки определяют, с какой скоростью воспринимаются его «берега».
После переустройства Парижа, после появления большого количества незнакомцев, на помощь горожанину пришли физиологии (повествования в духе энциклопедических статей о типажах и местах их обитания, как у Брема с животными, только с людьми). И это был не только интерес к окружающим и стремление каталогизировать, классифицировать и так далее. Это было желание понять и разобраться, кто же тебя теперь вообще окружает (весьма похвальное, стоит заметить). Принадлежность прохожего к тому или иному классу уже не прочитывалась с первого раза. Потом физиологии заменила статистика, отбросившая индивидуальное ради общего.
Зато теперь те же самые физиологии помогают понять, что если город и менялся, то сам горожанин и его повадки оставались прежними. Парижанин сороковых годов девятнадцатого столетия мало отличается от парижанина современного. Только вместо кареты машина. И ботинки почище и поприличнее, потому что канализация уведена под землю.
Первые кинематографические опыты демонстрировали городской толпе жизнь городской толпы. И все те фильмы об одном дне города или об одной ночи города, «городские симфонии», которые появятся в двадцатых годах просто развивали старую тему: человеку интересно смотреть на себя. На нового человека, как у Вертова, или на обычного человека, как у Руттмана.
Основные градостроительные идеи принадлежали с самого начала не архитекторам. Военным инженерам на заре планирования, а в ХХ веке (и конце девятнадцатого) — журналистам, стенографу и художнику со связями, который стал в итоге архитектором, но лучше бы не стал. Хотя тогда у нас не было бы современного облика городов, и не о чем было бы писать.
Город был и останется наиболее компактным поселением. В городе концентрируется всё: люди, капитал, технологии.
Большой город, в котором обычно легче сколотить состояние, чем где-то ещё, привлекает как очень богатых, так и очень бедных. И социальное неравенство лучше всего заметно именно в городе.
Единый город возникает из отдельных, отличающихся друг от друга частей. Каждая квартира — это параллельная вселенная. Каждый человек, если уж на то пошло, тоже.
Город делится на деловые, промышленные, торговые и жилые районы. В этой связи принято упоминать про зонирование. Которое определяет, что в районе можно строить, а что нельзя, какой высоты и какого размера могут быть возводимые здания, на участки какого размера будет поделён район (волшебная сетка Манхэттена). Которое запрещает использование земли для некоторых целей, что регулярно расстраивает тех, кто с этими целями к району и присматривается. Зато чем разнообразнее кварталы, тем легче в городе ориентироваться.
Сровнять с землёй всё старое, чтобы построить новое, до сих пор остаётся самым простым (в том числе с точки зрения проявления фантазии), быстрым и даже сравнительно дешёвым способом. Территории под все проекты не хватает, поэтому рано или поздно в поле зрения девелоперов и властей попадает самое густонаселённое, самое опасное, но одновременно и самое беззащитное: трущобы.
С трущобами городские власти и всяческие корпорации хотят сделать одну вещь. То есть две. Всё к чертям собачьим снести — это раз. Застроить красивыми домиками — это два. Обычно трущобы появляются на земле, которая никому не нужна. Она уже обычно принадлежит кому-нибудь, но является такой неудобной, бесперспективной и не близлежащей, что никто её не использует. А когда становится тесно и хочется построить новый деловой квартал или проложить шоссе — бац! там уже стихийное поселение. Другой вариант: трущобами становятся кварталы, которые изначально никому не нужны. Властям, например. Получившиеся трущобы, с которыми не получилось сделать вышеупомянутые две вещи, обычно стремятся хотя бы просто чуть-чуть перестроить и улучшить, но это тупиковый путь развития. Всех не выгонишь, сообщества будут разрушены (хотя если все будут взаимодействовать, как того желает Холлис, они смогут сформировать новые сообщества, между прочим-то). Поэтому надо просто улучшать то, что само «завелось». Стены покрасить… Или начать с водопровода и канализации. Потому что общественные уборные для всех и удобные уборные для женщин (а мы помним, что именно хорошо обустроенные туалеты для дам в кринолинах, а не только крупные универмаги, помогли женщинам начать подальше отходить от дома, становясь более самостоятельными) — это то, с чего надо начинать. А потом провести электричество, пустить автобусную линию — и уже станет лучше.
Каждую минуту 130 человек переезжают жить в город. В 2001 году треть городского населения планеты (потому что в разных регионах были свои отличия по составу) проживала в трущобах. Сформулировать чёткое определение трущоб пока так и не смогли, но уже понятно, что они не только зло, но и добро. Они помогают адаптироваться приезжим, они помогают найти работу неквалифицированным. Да и трущобы трущобам рознь. Это и просто бедные кварталы (то есть не «невидимые» люди, а ценный в период выборов электорат), и всякая жуть из произведений английских писателей, и индийская повседневность из фильма про умного, но бедного мальчика, получившего миллион.
Вообще, самый мирный способ заполучить как можно больше городской земли под свои проекты — это война. Это же — самый простой способ обновить город и подарить ему новую архитектуру.
Один из самых симпатичных примеров — послевоенный Гавр Огюста Пере. Город практически полностью разбомбила британская авиация, не осталось ни школ, ни административных зданий (то есть самого важного). После окончания Второй мировой Пере, которому уже было чуть-чуть за 70, со своими учениками принялся всё это восстанавливать. Поскольку надо было работать быстро, получился город из стекла и бетона. Но бетон сделали разноцветным: обломки старых домов сортировали по цвету перед тем, как отправить на переработку. Широкие проспекты и улицы, разные (рааазные) дома… Стало гораздо современнее и свободнее. Ради гармонии, конечно, дома построили только для 60 тысяч человек, оставшихся без крова, а не для прежних восьмидесяти тысяч. Но ради гармонии ещё и не такое можно сделать.
Или другой пример. Прага после бомбёжки в конце Второй мировой в итоге тоже получила новые бетонные конструкции. Когда американские бомбардировщики, летевшие бомбить Дрезден, случайно свернули не туда (ориентировались не по карте, а по пачке «Беломора»), и центр города пострадал ни за что, старые здания тоже не стали восстанавливать, а построили бетонное новьё. А Эммаусскому монастырю ещё и «уши» приделали (сколько бы ни убеждали путеводители, что это пики-паруса, всё равно уши), потому что восстанавливать уже совсем нечего было.
США во время Второй мировой не бомбили (Пёрл-Харбор — исключение, не имеющее отношения к обсуждаемой теме), поэтому нет нужды говорить о восстановлении зданий в центрах больших городов. Стихийные бедствия вносят свои коррективы, но послевоенного строительства такого масштаба, как в Европе и СССР там не было. Там своя песочница, соответственно, и проблемы городского планирования другие. Решит какой-нибудь владелец участка что-то построить или снести, придумает мэр города масштабную перепланировку — вот тогда и начинается новое строительство.
Хотя, конечно, изначально американские градостроители ориентировались на европейские города. Которые почему-то всегда оказывались лучше американских, даже тех, что были построены именно по европейскому образцу.
Города были и остаются главной целью на случай войны. Если раньше города брали, осаждали, грабили, и было важно сгруппировать всё покомпактнее в центре, чтобы потом защищать, то развитие вооружения сделало необходимым рассредоточение институтов власти по всему городскому пространству (и бюрократический аппарат заодно разросся). А ещё развитие вооружения дало возможность не устраивать блокаду или ковровые бомбардировки, а сразу сбрасывать атомную бомбу. Отправлять много самолётов — это дорого, поэтому пришлось придумать «Сто игр в одном».
Плюс: это (частично) отбило охоту ссориться по-крупному. Минус: стало больше возни со сносом и перепланировкой.